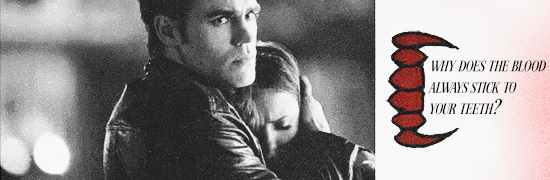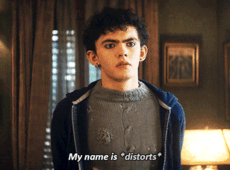...привычка жить как-то бережно
И к другим, и к себе
Ты мне опять не поверишь
Но это всё о борьбе!
[indent] Утро любого порядочного героя начинается отнюдь не с кофе. Елена, быть может, и мечтала проваляться в постели до обеда, потискать морскую свинку и заскочить к Бобу с парой свежих пончиков. Но едва она открыла глаза, рука сама потянулась к телефону (ничего себе, уже почти полдень!), и сообщение от Валентины Аллегры де Фонтейн с лаконичной фразой: «Мой кабинет. Немедленно» — не оставило ни шанса на спокойный день.
[indent] Речь, скорее всего, пойдёт о новой миссии. Вернее, о её деталях, которые они вчера обсуждали с Валентиной. Задача, по сути, плевая: поступила наводка, что парочка придурков из местной банды положила глаз на старый, почти заброшенный склад с оружием. Его должны были почистить военные, но переезд организовали в спешке, и часть арсенала осталась нетронутой. О чём, видимо, прознали ушлые головорезы. Таковы были официальные данные. Казалось бы, отправить на место пару агентов и дело с концом. Но, видимо, у де Фонтейн был на этот счёт свой, особый взгляд, который она и собиралась обсудить с Еленой.
[indent] Быстро уладив все утренние процедуры и облачившись в удобный черный костюм, Белова направилась к кабинету Валентины, уже предвкушая, что разговор ей вряд ли придётся по душе. Воздух в коридоре был прохладен, а за тяжелой дверью её ждал тот самый разговор, который мог всё изменить.
[indent] — Ты должна взять с собой на это задание Боба.
[indent] — Это плохая идея, Валентина, — стояла на своём девушка, скрестив руки на груди в немом протесте.
[indent] — Дорогая, не делай из этого драму. Мальчику пора узнать, как работают спецагенты. С его-то потенциалом? Лучше он увидит всё в контролируемых условиях, под нашим присмотром. Никаких подвигов, просто... ознакомительная экскурсия. Пусть понаблюдает, как работают профессионалы.
[indent] Белова должна была сказать что-то в ответ, бросить колкость, отшутиться, но вместо этого губы сомкнулись в тугую нить, а в горле застрял ком молчаливого признания. Как же Елена в эту секунду ненавидела Валентину — её спокойную, почти бесстрастную ухмылку, её умение вскрывать самые уязвимые места без единого намёка на сочувствие. Валентина была права. Чёрт возьми, она всегда была права там, где это больнее всего било. И пусть информация о Бобе засекречена, рано или поздно они до него доберутся. Найдут способ приручить, прижать, поставить на службу. Или промыв мозги, отправят убивать невинных.
[indent] А Елена, сможет ли она его защитить? Почему для нее это так важно? Этот вопрос обжёг изнутри, заставив сердце биться чаще.
[indent] Пока их команда справляется. Но это продлится ровно до тех пор, пока не возникнет угроза «пожирнее», угроза планетарного масштаба. И тогда… Девушка с силой провела пальцами у висков, отгоняя навязчивые мысли. Баки прав. Боб должен понимать, как действовать во время миссий. И пусть лучше он увидит всё это сейчас. Мягко, без давления, с её чуткой поддержкой.
[indent] Елена представляла, как он стоит позади, наблюдая за их слаженной работой, за её работой. Как она ломает кости, как без колебаний использует любые средства для достижения цели. Увидит её не героем, а тем, кем она была на самом деле - отточенным инструментом, рожденным в пламени «Красной Комнаты». И что тогда? Он увидит ту самую тень, от которой девушка так отчаянно пыталась его оградить. Но, возможно, именно в этом и был ключ. Может, лучшая защита - не прятать его от правды, а показать её первой, чтобы чудовища из чужих рассказов не стали для него неожиданностью. Чтобы, когда придут за ним, он был готов. Даже если это означало, что он увидит в ней монстра. Увидит монстра и тогда быть может перестанет страшиться своего?
[indent] Покинув кабинет Валентины, Белова почти физически ощущала её пронзительный взгляд на спине. Холодный, оценивающий, поймавший её на слабости. И, словно этого было мало, в дверном проёме напротив она столкнулась с Бобом. Что он здесь забыл? Неужели Валентина вызвала и его? Сначала девушка увидела его напряжённую спину, развернувшуюся к ней, а затем — неловкую, вымученную улыбку, которую он попытался натянуть. По тому, как он потупился, как пальцы бессознательно сжали край свитера, Елена всё поняла. Он всё слышал.
[indent] Блядство.
[indent] Елена действительно собиралась с ним поговорить. Объяснить всё сама. Мягко, аккуратно, подготовив и его, и себя. Но только не так. Не здесь, в стерильном коридоре, где каждое слово эхом отдаётся в душе.
[indent] — Всё будет в порядке, слышишь? Ты сегодня мой напарник, и я на тебя рассчитываю, — голос прозвучал неестественно бодро, а попытка задорно подмигнуть вышла настолько фальшивой, что её передёрнуло изнутри.
[indent] Девушка не хотела брать его на задание. Не потому, что сомневалась в нём, Елена видела, на что он способен. А потому, что отчаянно хотела уберечь. Уберечь от той грязи, что налипает на подошвы и уже не отскрести, от боли, что пускает когти раздирая душу на части, от необходимости однажды посмотреть в зеркало и не узнать свои глаза. Боб был добрым. Светлым. Хорошим человеком. И в ней бушевало лютое желание встать между ним и всем мраком этого мира. Защитить его от одиночества, что раздирает душу на части, от необходимости однажды отмывать руки, испачканные чужой кровью, и понимать, что всё было правильно… но от этого не легче.
[indent] Эту реальность нужно принять. Рано или поздно. Но она готова была прятать его от этой правды так долго, как только сможет. Оберегать то хрупкое, важное, что неожиданно обрела в лице этого нескладного, милого парня.
[indent] — Встречаемся у фургона через два с половиной часа, — бросила девушка уже через плечо, отрубив пространство для возражений. — Вдвоём. Группа захвата будет на подстраховке, но… сегодня на первом плане мы.
[indent] Задача была не просто в том, чтобы устранить очередную проблему. Валентина хотела посмотреть на свою команду в деле: слаженную, жёсткую, эффективную. Искала ли она слабые места? Чего желала на самом деле? И Елена ненавидела себя за то, что согласилась. Ненавидела эту игру, в которой была всего лишь пешкой, ненавидела то, как ловко Валентина играла на её чувствах, и больше всего ненавидела себя за то, что всё это понимала, но всё равно шла у неё на поводу.
[indent] Приглушённый рёв двигателя — единственное, что нарушало тишину в салоне. Елена провела пальцем по планшету, выводя на экран схему заброшенного склада.
[indent] — Смотри. Красная точка - это я. Мой маячок. Как только я подам сигнал - всё кончено, я возвращаюсь, и мы едем домой. Если что-то пойдёт не так… — девушка посмотрела на него прямо, — вызови подкрепление. Мы не одни.
[indent] Она коснулась крошечной камеры на своём комбезе.
[indent] — Видишь? У тебя будут мои глаза. Ты всё увидишь. Но помни: тебе не нужно вмешиваться. Твоя задача - наблюдать и быть на связи. Если что-то случится… они зачистят территорию.
[indent] Она замолчала, будто проверяя, всё ли сказала. А потом, неожиданно даже для себя, потянулась к нему, оставив на щеке лёгкий, почти невесомый поцелуй.
[indent] — На удачу, — выдохнула Елена уже у открытой двери, и на её губах на мгновение расцвела искренняя, тёплая улыбка. И прежде чем он успел что-то ответить, она растворилась в ночи.